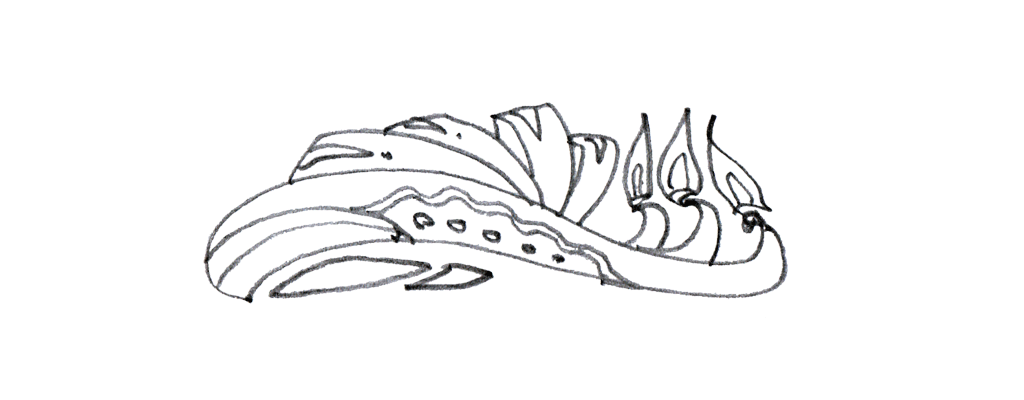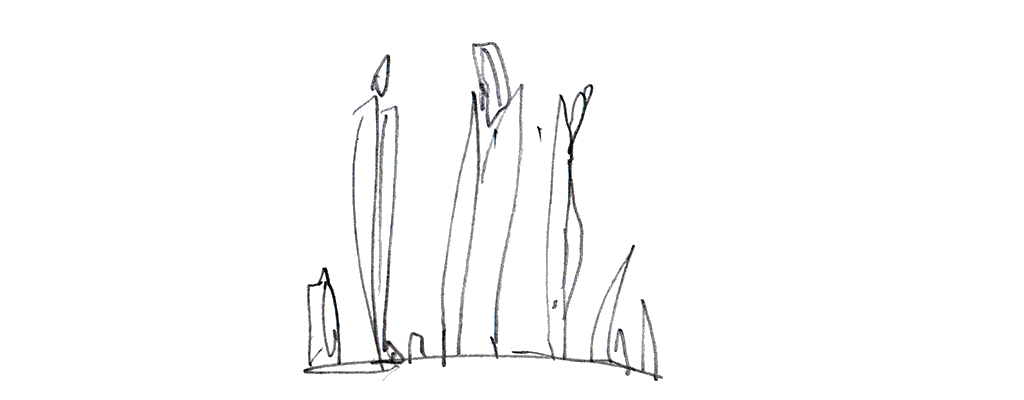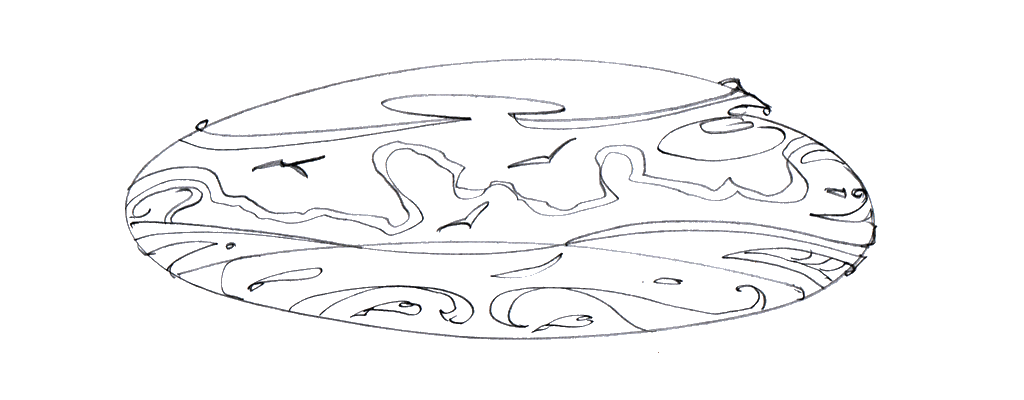Евин Рай
* * *
На Лесбос солнечный, на Родос лучезарный
сорвусь, всё брошу, не простившись, не сказавшись.
(Спущу с откоса заодно состав товарный,
тот, что под окнами снуёт…) Да, не влюбившись!
Не втюрившись, не голову теряя,
не как пингвин, удрав из зоосада.
Без этих: «Ох» и «Ах», «Быть может зря я…»
На Крит, на Корфу! И пускай у вас рассада,
все подоконники затмив, стремится к свету,
и к стёклам льнёт своим бутончиком тщедушным,
и ждёт, и ждёт - когда, когда же я приеду,
причалю к берегу тому путём воздушным.
К тому, где ты… с остервененьем святотатца
не ждёшь, но слепо знаешь, вспенив лету,
что не позволю вам так запросто расстаться,
что на Аптекарский и Каменный поеду.
* * *
«Следствия влекут к себе причины…» -
монотонно сетует Пегас.
Ищут, ищут ножик перочинный,
мониторят сумку пятый раз.
Я молчу. Жую свою мякину.
Радуюсь заминке. (Или нет?)
Мысль верчу: Я, дом один покинув,
в дом другой спешу… Ведь вот же бред!
Ищут, ищут, молнии терзают –
Дался ж им швейцарский тот брелок.
- Потерялся он давно! - Не понимают…
Ищут, ищут, ищут, всё не в прок.
Всем спасибо, все свободны. - Sorry!
- Never mind. Have a nice weekend.
«Следствия с причинами в раздоре».
Так то друг мой! Погоди… момент…
Ручку не найду никак. Вот тоже...
Брешь в подкладке… Ищут… Боже мой!
Вот он где, злосчастный этот ножик,
позапрошлою исчезнувший весной.
Из конспектов
Бог не является неким объектом познания,
И не предмет для рассудочного изучения.
Бог существо простое – обратите ваше внимание! –
То есть един, неделим, не дифференцирован. Разночтения
Все оставим пока. Наблюдение мира видимого
нам даёт естественное Богопознание. А библейского Бога,
Того, что превыше всяких наук – неизведанного и невиданного –
Нам постичь не дано, лишь на ты обратиться. Без всего наносного:
Бог – это неизреченное слово, безымянное имя.
Бог един существом и конкретен в своих ипостасях.
Человеческих качеств превыше, различен в лицах и светел ими.
Бог – премудрость и разум и жизнь. Нам умом не достать их!
Дух святой, проницающий всё до глубин до самых,
Он один лишь все тайны ведает, беспристрастный…
Вот и всё на сегодня, продолжим в среду. Вопросы самых
Любопытных тогда же рассмотрим, как случай частный.
* * *
Над облачной ватой лететь в самолёте.
Лететь и не думать о том, что под нею –
Марсель, Копенгаген – на автопилоте –
угар средиземный, балтийское зелье,
затишие Тихого, тайны Атлантики,
прохладные местности, точки горячие…
О чём это мы под шуршащие фантики
конфеток ментоловых? Взгляды незрячие…
А раньше-то, раньше! В плацкарте обшарпанном,
в автобусе львовском проржавленном начисто,
как весело ездилось вдаль, аж за Нарву нам.
Ах, всё это молодость, глупость, ребячество!
Теперь вот летаем. Надменною павой
по воздуху плавно - по времени чинно
осанистым гоголем. Строчкой корявой
царапаем небо вотще беспричинно.
А коль не вотще, то пожалуй одно лишь… –
Оставь ради Бога про Рема и Ромула! –
Ты взгляд её знаешь? Лицо её помнишь? –
Опять заглянула в глаза и… не тронула.
* * *
Весна подступит с грозой и ливнем,
под дверь просочится верлибром скользким.
Повеет чем-то альтернативным
сквозь щели – шершавым наречьем польским,
глумливыми горлицами, грачами,
и паром клубящимся над водою,
и пыльной связкой с пятью ключами
от дачи пропавшей вдали, за мглою
тумана. На месте болота скалы
воображение чертит, лепит.
Мы не безразличны, не злы! – усталы,
измотаны, заперты в зимнем склепе.
* * *
Солнце силится усилить светло-синий
и зелёный узаконить на газоне.
Сколько чёрточек чудных и мелких линий
на лице твоём улыбчивом… Нагонит
ветер тучи – послезавтра обещали. –
Отсыреет небо, станет светло-серым.
Налетят пернато-пегие печали.
Взгоношатся хитроумные химеры.
Дождь зальётся смехом… Смехом?… Ливень хлынет –
смоет всё безоговорочно и слепо.
Нету чёрточек улыбчивых в помине –
только нежное безоблачное небо.
* * *
Здесь, в медленном парке, что в солнце медовом
утоплен совсем и почти обездвижен
тяжёлым и спелым полуденным словом,
немыслимо сладким. Мы, может быть, ниже,
мы, может быть, позже, потом, если сможем
осилить его золотистое жженье…
Не часто случается полднем погожим,
тем самым, Воскресным, застыть без движенья,
сощурить глаза, и от лиственной щери,
топорщато-липкой, теряя рассудок…
Они не нашли, что искали в пещере.
Нетронутым масло осталось в сосудах.
Печать нерушима. Как всё это было?
Достались бы числа одни нам да слоги,
когда б не одна, что кувшин свой разбила
рыдая, Садовнику бросившись в ноги.
Не зная ещё то, что целостность мира
уже совершилась. И воздух, дыханью
переча в тот миг, обратившийся тканью,
навечно впитал благодатное миро.
Портрет неизвестной
В глазах твоих чуть слышная печаль
неизгладимо светлого порядка.
Во взгляде тишина – как будто жаль
тебе чего-то, вскользь... Немая складка
губ чопорных, упорствуя, молчит,
витиеватый их изгиб преумножая.
Весь облик дерзок твой, и нарочит,
и прихотлив, и тайна в нём большая.
Мне жаль её смолистое тепло
Улыбкой терпкой тронутое жгуче.
- О чём смеясь кручинишься? - Легло
на дно души оскоминкой певучей.
«…Не забывай меня, казни меня,
Но дай мне имя, дай мне имя!
Мне будет легче с ним, пойми меня,
В беременной глубокой сини.»
О. Мандельштам
Опять всё в доме растревожено,
(а ведь всего-то на неделю!)
Всё нужное давно уложено
в рюкзак, а я всё канителю:
всё не застёгиваю молнии,
всё не сажусь перед дорогой.
Вот-вот и… вспомню. Что-то вспомню и…
Ну, всё! Уже не вспомню. Трогай,
ямщик, трамвай, во тьму вокзальную
меня влеки! Платформа, поезд…
Слезу пустить сентиментальную?
Зачем?.. О чём я беспокоюсь!
Поплыл перрон, домишки, ёлочки…
Вон резиденция правительства.
Но вижу я не их – на полочке
мой пластиковый вид на жительство,
права, кредитки, оба паспорта.
(Когтится запоздало Cogito.)
Ну что? Стоп-кран – и вон из транспорта?
Да только… Голова и ноги-то
чьи? - Я теперь без имени,
фамилии и дня рождения…
Ну, Мнемозина! Всё! Не зли меня.
Я не могу прервать движения.
Ведь я никто. Мне нет названия.
И будет так неделю целую.
Должно быть - это в наказание…
А вдруг в награду? – что ни сделаю
всё то не я. Жизнь выносимее
не стала? – странно… Длится вяло
ночь за окном, всё в тёмно-синее
закутывая одеяло…
* * *
Вот ещё пять дней по теченью сплыли.
Знаешь что… Впрочем, нет. Не подам и вида.
Эти ваши картонные «Жили-были».
А вообще… Я терпеть не могу Эвклида,
Архимеда, тем более Пифагора –
эти шашни с числами ненавижу
с детства раннего. Знаешь, вот если б горы -
все пригорки, холмики – выше, ближе –
собрались все вместе, в одну большую
необъятную глыбищу, кучу-кручу.
А все хляби-лужи… Опять бушую?
Морщу лоб? Ращу над бровями тучу?
Да не то я пытаюсь сказать тебе здесь!
Знаешь, время мчится составом скорым.
И пока проездной, так ты хоть уездись.
А как выйдет срок?… Не гляди с укором.
* * *
«Географичка – дура. Прочтёшь, передай соседу».
Передавали, хихикали. Тем урок географии был исчерпан.
Как же уразуметь мне теперь, что не в Выборг еду.
В Брюгге еду, о Господи! Пересадочный пункт Антверпен.
А она без запинки шпарила – Брюссель, Лиссабон, Монако.
Ковыряла карту без устали чёрной колючей указкой.
Мы писали в тетрадь, что-то вроде Парижеафиноберлин однако.
А когда она злилась, мы мазали стул ей зелёной краской.
Вызывали родителей в школу. А мы, до большой перемены
кое как дотянув, вместо завтрака в душной столовой,
над потрёпанной картой Лен-области шумно решали проблему:
Где нам лучше на майские – Вырица, Токсово, Комарово…
А теперь, когда вместо Солнечного, за окном Гаага,
А на месте Зеленогорска – Роттердам. Я теряю разум –
Ведь она на всём этом была помешана, бедолага,
И пыталась… А мы глумились, не давали закончить фразу.
Где теперь мы? Как нас разбросало по свету! Смотри-ка…
Тот в Израиле, эта в Америке. Дальний восток, Майорка…
Только всем нам на майские снится одна и та же брусника,
котелок и перловка, и по географии (чудо!) в журнал пятёрка.
* * *
Когда расстроенный усталый звукоряд
в растерянности ищет благозвучие,
но только иглы диссонансов в нём звенят
и обертоны бьют друг дружку. Лучше
не трогать клавиши в такой момент совсем,
но крышку поплотней закрыть поспешно.
Мол, я не знаю что случилось, глух и нем
сегодня инструмент. Хотя… Конечно…
Исправить всё это несложно - медный ключ
уже орудует, колки перебирая,
выравнивая каждый звук, как луч,
как окись с бронзы, фальшь с него стирая.
Но этот хлопотный и кропотливый труд
нельзя оставить ни на миг, в любом зазоре,
где музыка прервётся, тут как тут
настройщик ревностный. Моё он знает горе! -
В тот миг, когда две сотни струн полны
журчащей радостью, гармонии послушны,
одной отчаянно-расстроенной струны,
со дна безмолвия, с ужасной глубины…
- Колок не той резьбы – ответствует радушно.
09.05.2004
* * *
Ты ушёл…. На облаке отчалил
в высь полуденную сине-золотую.
Этот день всегда меня печалил,
в этот раз особенно. Расту я
может быть? Во сне летаю часто,
то на самолёте, то как птица,
то парю в пространстве безучастно…
Кстати, часто снится заграница,
то есть до-граница, пред-… не знаю
как теперь и звать-то эту местность.
Не Россия – Беларусь седая,
бабка полька, домик наш, окрестность,
васильки на пажити пшеничной,
кладбище на холмике над речкой.
Просыпаюсь резко – непривычно
всё это. Сгорела за ночь свечка,
надо бы на смену ей другую.
Ты ушёл и без тебя разруха!
Ты ушёл… - и мыши врассыпную –
Ждать велел утешителя Духа.
* * *
На языке, на ломаном, на фене,
на зауми чумной, англосаксонской,
так много всякой мелкой дребедени,
мне не успеть тебе… За этой вёрсткой,
за правкой поздней, спешной редактурой,
за крупными бумажными делами.
Жизнь загромождена литературой -
Как душно в ней! И, только между нами,
ты знаешь всё, до самой сердцевины,
до сути самой – ушлой, шестипалой…
Весь список кораблей, бесцельно длинный,
всех воинов пирующей Валгаллы,
улыбки радуг, полной тьмы оскалы…
Молчишь о том, с улыбкою усталой,
и вдаль глядишь – беспечный и невинный.
* * *
Мастерство всё маячило где-то вдали, впотьмах.
Творчество неустанно твердило своё «Спеши!»
Возраст шептал, что рано - не тот размах
крыльев ещё, объёмы не те у души.
Так пролетали месяцы день за днём.
Годы скользили змейкой среди песков
необъятных барханов времени. Только уснём –
просыпаться пора. То Рязань за окном, то Псков.
Совесть, изъян завидев, шипела: «Режь!
Всё, что не безупречно – в огонь, под нож!»
Так вот и встретили очередной рубеж.
Ждали, гадали, какой он, на что похож.
Край его рваный и ржавый, язык картав.
Чинно сменяют Гаагу, Брюссель, Париж.
В солнечном свете какой-то немыслимый сплав.
Знаю, что есть, не пойму, почему молчишь.
Строчки текут на бумагу ручьём, рекой.
Хоть неуместны совсем, им не рады тут.
Знаю, что есть! - Неужели моей рукой…
Путь им не преградить – всё равно найдут.
Жалоба
Мне как будто дорого всё это.
Сильно, кажется, похоже, не минутно.
В этот год опять не будет лета.
Ну, и Бог с ним, собственно. Пусть смутно
жалоба какая-то в глубинах -
сердцевинных, душных, подноготных -
копошится, в перьях голубиных,
в тополином пухе. В мыслях плотных,
в липких помыслах, какая-то сквозная
(пчёлка бедная – ворсинки да полоски!)
фраза: «Шар земной, он всё же плоский?…»
Сколько всякой дребедени… То Даная
под дождём золотоносным, то Европа
на быке кургузом. Копья… Палки…
Тки Лаэртов саван, Пенелопа!
Распускай и снова тки. Скрипучей прялке
спуску не давай, сквозь сито сея
слёзы двадцать лет. (А был бы рядом?)
Стук вязальных спиц. Вся Одиссея -
череда петелек, ряд за рядом.
* * *
Осатанев от повторений и реприз,
всё разговаривать с собою, уговаривая –
Не ураган – всего лишь тёплый с моря бриз.
Закат всего лишь, не пожара марево. Я
не могу похоже больше. Нету сил.
Во всяком случае, уже самостоятельно
не справиться. И не спасает девясил.
И этот ангел, что следить за мной внимательно
назначен, тоже как-то сильно сдал
(от всех зигзагов, что мы с ним выписывали…)
он как-то резко постарел. Под самосвал
чуть не попали с ним на днях. Твержу: Возьми себе
кого-нибудь другого… Ну, друзья.
Но что-то стали мы ронять своё достоинство
друг перед другом слишком… Ни гу-гу в ответ. Нельзя!
У них ведь там не просто так, а воинство.
* * *
Вечером пахнет петуния -
жарким, натруженным вечером.
Длятся дневные раздумья,
нерасторопным диспетчером
держат на автоответчике
сумерки. Медленно, мнительно…
Снять их! Повесить на плечики,
там и оставить. Стремительно
съехать до срока – нагонят ли?
Доводы их, комментарии…
Пахнут погоней бегонии.
Заревом пахнут азалии.
Ночь вся пропитана мыслями:
пахнет ли жалостью жимолость?
Или пропавшими письмами? -
Утро росой уже вымылось -
Жалобой? Жизнью? Желанием…
Чем-то горчащим и жалящим.
Яростным непониманием
близких, коллег и товарищей.
ИЗ ДОЖДЛИВОГО
I
Льющейся воды потоки, струи –
Как они баюкают! Как тешит
капель влажный лепет - Ruhe, Ruhe…
водостоков клёкот. Где вы? Где же?
Мысли суетливые, тревоги?
Вечно ведь какой-то шелухою -
ватой, медью, близостью дороги –
голова забита. «Дай, укрою!» –
плед шепнёт. И в этот миг… Как хлынет
небо на землю. Как солнце, за горою
тучи спрячется, утонет, вовсе сгинет.
Как пойдёт отшельничество ночи
в искушеньях молнии и грома.
Sturm und Drang! Как… беспощадно точен
каждый звук в холодном чреве дома.
II
Дождевые нити тянут Парки -
паутинкой влажной оплетают
садики, террасы, скверы, парки.
Суетятся, копошатся. Я листаю
день за днём неторопливо, с расстановкой.
Прикрепляю к часу час упругой скрепкой.
Тут нельзя спешить. Ведь как порой неловко
пряжу длит Клото. Лахесис так нередко
забывается, клубок из рук роняя.
Вот опять сплошной колтун. Что делать, Логос?
Жмёт плечами – Что мне вся эта возня их!
- Я распутаю – постой, не режь! Атропос…
III
Всё льёт и льёт…( Попробуй, выскочи
за дверь – тебе ушат на голову…)
Как будто душ забыли выключить
и в отпуск ринулись. Ведь с голоду,
пожалуй, можно тут преставиться,
в ковчеге этом трёхокончатом,
где тварь непарная питается
неясно чем. Мышь в перепончатом
портфеле шебуршит бумагами.
(опять в счетах всё перепутали!)
По стенке ползает зигзагами
комар. Зудит. Остатки удали
не тратим друг на дружку - что ещё
там эта блажь многосерийная…
Всё льёт водой дорогостоящей.
Ну, где машина аварийная!
* * *
Господи, эти эфы, деки, обечайки, шея…
Шейка её худенькая… Струна лопнет –
содрогнешься всем телом. Комок… Немея:
О, Боже! (Чайковский, шестая, финал). Топнет
бес, в ладоши хлопнет, и всё разлетится
вдребезги - Понимаешь? – Весь мир деревянно-жильный,
канифольный рай мой смолисто-пыльный. Лица… Лица
мелькают. Пыхтит паровоз: Витебск – Орша – Вильно…
«Живопись, убивающая музыку» – вот сюжет где! –
Холст, масло… Ракушки, рококо, рок, барокко
в электронный век?.. Он её убил! Ни потом, ни прежде –
в предрассветном сумраке со стены скользнул. Отойди! Не трогай…
Ничего не трогай теперь! - Утро ломится в двери с треском,
в окна метит булыжником мостовым. Питер, Пи-тер-пи-те…
Что мне Сафо! (Смычок её гнутый…) Шагал бы Алкей перелеском.
Понимаете, трещина в деке! А вы… - «Пять утра. Нужно спать,» - говорите.
* * *
Как в объятиях этих твоих нетесных тепло и уютно.
Как свободно дышится в них, как легко говорится, почти поётся.
Я уже начинаю любить этот порт, где всегда многолюдно.
Из железного птичьего чрева по трапу спускаться… Ребёнок смеётся
на руках у кого-то, трезвонят мобильные средства общенья.
«Всё в порядке, уже приземлились! Ещё полчаса – и я выйду…»
Полчаса, и твои распростёртые руки и их попеченье -
не опеки удушливость, лишь невесомость заботы. Обиду,
даже если была бы когда-то, ни в жизнь не вспомнишь, пожалуй.
Жизнь такая мгновенная! – Нам ли её изводить на попрёки.
В этом мы молчаливо согласны. Проржавленный и обветшалый
недостройки каркас утверждает нас в том. Ну, а длинные строки,
что я здесь учиняю опять… Не читай их! Всё это пустое
многословие и бесполезная тяга к словесному эквиваленту.
Будто если словами всё выразить, сложное сразу в простое
обратится, и миг попадётся, как муха на липкую ленту.
По картинам Филонова
Как в тело въевшийся пожар
живой невнятицы волнение,
где пена точек лепит шар,
а ворох линий длит кипение.
Борьба со временем, война
с самой динамикой мгновения.
Формулировка не важна –
важна лишь формула творения.
Ваяние миров, взахлёб,
в пустыни каменного города.
Там птицевод и землекоп
свидетели вселенной вспоротой.
Тончайшей кисточки толчком
вселенной взлом. Тому названия
не подобрать. Оставь… Потом!
Мы в эпицентре мироздания.
* * *
Посиди со мной на кухне у огня
неумытой трех конфорочной плиты.
Назови нелепым прозвищем меня,
птичье-вычурным. Колючие цветы
винно-красные, почти что в полный рост
человеческий с собою принеси.
Расскажи, как развели последний мост
и теперь тебе, особенно в связи
с бледнолицым полнолунием вотще
деться некуда. Да полно те, не трусь!
Я поверю даже в то, что чёрный груздь
вырос вдруг на подоконнике, в плюще
восковом, который стебли свесил так
из горшка, что заглушил собой герань…
Познь такая на дворе. А то ли рань…
Что ни ночь, то домовой, то вурдалак…
* * *
В черновиках такая чернь, такая темень,
что на душе неописуемая смута,
чернильно-чёрная, с отливом тёмно-синим.
Не отстирать её от этого мазута
и не отмыть - душистым мылом, нежной пеной –
всю эту клинопись с неё, всю эту смету
помарок, отчерков. Быть может, постепенно
на солнце выбелить, отдать на откуп лету?
С Купала самого держать в воде проточной
Пока Пророк в неё не кинет льдинку.
Весь август маяться, а в сентябре подстрочник
найти в сохранности и целости. Кувшинку
к нему прилипшую, клубники и малины
следы слащавые, безвкусицу морошки…
Мы так беспечны, так не осторожны!
А наши все слова непоправимы.
* * *
Тихий город. Абсолютно без реки.
Море близко, но не видно за горой,
Даже если посмотреть из под руки,
чтобы солнце не слепило. За игрой,
за трагедией на греческий мотив
то же мало удаётся разглядеть.
То анисом обожжёт аперитив,
То луна на небе полная, то треть.
То ни зги не видно вовсе – в облаках
канет обоюдоострая печаль.
Жизнь моя в твоих заботливых руках.
Мне совсем её отдать тебе не жаль.
* * *
Здесь постоянно солнечно… Ты знаешь,
Порой мне кажется, что это наваждение.
Что я в бреду, в горячке, понимаешь?
Я в госпитале после наводнения,
землетрясения, кораблекрушения…
Декабрь ластится, мурлычит, кошкой рыжей
в ногах мешается. Какие тут решения!
Какие доводы и выводы? Пойми же,
здесь солнечно, здесь радуги, здесь горы,
здесь виноградные по склонам вьются лозы.
Здесь смысла нет терпеть твои укоры
И ждать, как манны, мартовской мимозы.
SMS в роуминге
Приземлились уже! Долетели отлично.
Что вокруг – не пойму. Говорят, что горы.
Море тоже вблизи. Да! Так что на личном
у тебя там стряслось? Время мчится! Скоро
рождество – мне таксист сообщил вот только.
Или он не о том? Я его наречие
разбираю с трудом. Ты меня во сколько
сможешь встретить спустя шесть недель? Колечко
потерялось любимое. С днём рождения
не звоните, не надо – и так всё знаю.
Вот уже второе пошло сообщение.
Закругляюсь. Целую и обнимаю.
___________________
Тут вокруг действительно горы, море.
Неба столько, что больно глазам. Всё в синем
и зелёном здесь. Что у вас? В уборе
снежном ёлочки? Трудно представить. Сильно
здесь скучать не случается – тьма работы.
А когда выходные – которых много –
то бросает в жар от чумной свободы,
от морского ветра в озноб. Не трогай
у меня на столе ничего. Смотри там!
Пусть пока в беспорядке бумаг пирует
пыль. Вернусь – разберу. Харитам
нашим всем привет. Всех люблю. Целую.
___________________
«Пусть ангел хранитель поможет лететь,
когда твои крылья опустятся вниз.
Храни сообщение нынче и впредь.
Троим отошли. Жди. Наступит релиз
втечение недели, точнее семи
рабочих безоблачно-солнечных дней.
Увидишь, что будет! Не хлопай дверьми.
Проветривай в комнате…» Жизнь веселей
мне сделать ты хочешь? До коликов аж
смеюсь целый день, до икоты. Простых
вещей не напишешь, но всякую блажь.
По-русски при том, как всегда на троих.
______________________
Представляешь, вчера возвращаясь поздно
я вдруг… Бешено время мчится!
Ну, так что? Промелькнули недели. Грозно
самолёт заурчит послезавтра. Ключица
будет снова саднить от багажной лямки.
Как всегда меня вовсе не кому встретить.
А когда домой, я не знаю. В дамки
пешке что-то пока не прорваться. В свете
новогодней, рождественской, прочей встряски
ты поздравь там всех от меня. Что с хламом
на столе? Не знаю. Оставь до Пасхи.
Ну, до Троицы в случае крайнем самом.
"Любити убо нам, яко безбедное страхом удобее молчание,
Любовию же дево песни ткати спротяженно сложенныя, неудобно есть:
но и мати силу, елико есть произволение, даждь."
Ирмос канона Утрени Рождества Христова
Паутинку хлопчатобумажную пальцы тревожат устало.
Кружевница, оставив работу, коклюшки до завтра отложит.
Узелки эти, петельки… - Воздух! – опять, снова их не достало,
Чтобы выткать узор небывалый с безмолвною песнею схожий.
Нитки тонкие вьются и бесятся, витиеватой строкою.
Лезет всюду орнамент локальный назойливо-невыносимый.
Бесконечные лютики, листики, ласточки льются рекою,
И неведомый облик во всём этом, вовсе непроизносимый.
Вечер клонится к ночи и сумерки треплют поникшую иву.
Звёзды небо буравят, срываются, падают в тихую воду.
Сны несутся растрёпанным облаком, вон из окна, на свободу,
Мимо ратушной башни притихшей, над полем, над лугом, к заливу.
Сердце мечется в клетке грудной, оглушает прерывистым стуком,
как Иона из рыбьего чрева, отчаянно рвётся наружу.
Тишина замирает над краем протяжным насыщенным звуком,
И молчание холит и нежит безбедную страхами душу.
Рутина
То раздельно пишется…Это, напротив, слитно…
Запятая тут. Точка здесь… Сквозь сухой валежник
Пунктуации пробираясь – ни зги не видно!
Можжевельник грамматики всюду. Поди, черешни
поспели в саду уже. А ты здесь с этой клюквой
прошлогодней маешься. Хватит! Ну разве надо
стаю мух в окне, чтоб расплакаться? Буква с буквой
так не ладят… Какие тут, право, кефир, менадо,
а в начале «мой сорт»… А что? Пошуршим обёрткой?
Отвернём фольгу аккуратно. Что там? – изюм, орехи…
Детство водит сачком, а ты всё стрекозкой вёрткой
от него, то вправо, то влево. И без того прорехи
сплошняком в старой сетке – следы от зубов комариных!
Ну конечно они источили капрон, а то кто же?…
Так. Убираем сладкую плитку. А то мурашки по коже.
По углам уже Гофманы, в форточке Андерсены и Гримы.
* * *
Хочется тихо сойти с ума,
Только без шума и лишних дрязг.
Осточертела уже сума.
Может быть лучше склероз, маразм…
Это не жалоба и не упрёк –
Лето, и разум жара мутит.
Даже не стих – просто мысли меж строк.
Мне это всё, как и вам, претит.
* * *
Ах, все детали, все твои обиды –
витиеватые, курчавые печали –
сложу в сундук и никому не выдам.
Нас времени качели укачали!
Укатанным катком скользим в декабрь,
и в март срываемся с карниза хрупкой глыбой,
в июле спохватившись: Как же! Гагр
мы снова не увидим? А могли бы…
Но всё-таки, когда наполовину
тетрадь исписана, перевернув страницу,
того, кто мне так жарко дышит в спину
я знаю имя, но пока не выдам.
Евин Рай
1
Ах, уйди! – Не тронь меня, мальчик глупый,
Мимолётных влюблённостей страж крылатый.
Мне занозы твои после долго с лупой
По ночам выковыривать. Что, проклятый
Лгун? Паршивец! Попасть не можешь
в цель ни разу – всё время мажешь.
С Апполона Марсий сдирает кожу –
Бунюэль ликует. Кому расскажешь?
Перескажешь всё это пролетая
Над гнездом кукушки в ночном транзите?
Утаишь от всех! – На пределе мая,
За чертой июня. В июль продлитесь
Мыслей сбивчивых рощи и перелески
В бессловесных заводях поцелуя.
До поры, пока по мобильной леске
не примчится месседж: Вас не люблю я.
2
Не давай болеть ему! Не давай!
Зажимай рукой ножевой порез!
(Пулевой разрыв, рваный раны край…)
Ну а тот, кто в душу тебе залез,
тот уже не выберется назад
просто так беспошлинно, с кандачка.
(Что дремучий лес тот нескучный сад!)
Сукин сын комаринский, дурачка-
простачка валяющий! Не давай! –
Не давай саднить ему под ребром,
Под седьмым надломленным. Евин рай
опалит вскипающим серебром –
Живоносным золотом обнажит –
И Адам усядется на краю…
И Адам расплачется тут навзрыд:
«Ах раю мой сладостный! Мой раю...»
3
Прикоснись ко мне, вживи в меня истому,
обожги томительной тоской.
Пусть меня потянет к дыму, к дому –
тьму певучую разбереди! Покой –
многолетний обморок бесстрастья –
прекрати, растрогай, запрети.
Через край плесни в лицо мне счастья,
радости безудержной… Лети!
Уезжай! Удерживать не стану! –
Бешеной волной взметнётся спесь. –
Заполночь усну, с рассветом встану –
Хорошо, что ты на свете есть.
4
Что мне имя твоё, потерянный малоросс! –
Навевает что-то забытое… Дно реки
разбери поди под течением бурным! Чудной вопрос –
оказался французом как? – Да спрашивать не с руки.
По-английски с тобой перемалчиваемся невпопад,
по-немецки тайком перемигиваемся. Ну так что ж?
Что по-польски прабабка мне пела про снегопад,
про заядлые вьюги, злосчастные… Бросит в дрожь
и отпрянет ознобом, и снова, другой волной.
Промелькнёт нечто тёмно-лиловое вдалеке,
и поманит меня отсюда, тебя за мной.
Так, кочуя, любовью маемся, налегке.
* * *
Беспрепятственно мчится машина сквозь ночь по хайвэю.
Каждый путник в свою молчаливую думу погружен.
Вот и я мою тихую с ними безмолвно лелею,
замираю на ней, как спидометра стрелка. Наружу
не выходит ни звука, ни слова, ни вздоха, ни всхлипа.
Шорох шин по асфальту шершавому, мелкая морось.
Дальний свет извлекает из тьмы то ли клён, то ли липу,
то ли прочно зарытую в памяти давнюю горесть.
Мы обтянуты плотно стальной обтекаемой кожей.
Мы молчим и летим в пустоту (по домам!) над обрывом.
И все пятеро так друг на дружку бездарно похожи –
горсть мурашек и дрожь и «опять проскочили похоже…» -
что на скорости двести судьба отступает брезгливо.
* * *
Рухлядь всякая, рвань ребёнку
Достаётся в наследство. Плачет,
Рвёт постылую распашонку.
Всхлипы, сопли и лоб горячий.
Час за часом часы токуют,
Стрелки чертят на стенах тени.
Дали жизнь не поймёшь какую –
Хороша ли, дурна… Сравнений
Не найти никаких пока что.
Погремушки, пустышки – ретушь
На портрете прабабки. Частый
Влажный кашель. Горчичников ветошь.
* * *
Вот опять сегодня в церковь принесут
эритрейки сладкий белый хлеб
и младенца и, конечно же, сосуд
благовоний для купели. Наших треб
скудость северная, бледность наших лиц
невдомёк им, чернокожим и босым.
Точно стая добиблейских Божьих птиц.
Я смотрю на них и вижу – были с Ним.
И в пещере, и в пустыне, и в саду,
на горе Фавор, а позже на руках…
Разве римляне и греки ту беду
поделили? Росы, гунны… На реках
вавилонских вместе с ними плакать нам.
(Веселись, ликуй, пророче царь Давид!)
Молоко и мёд - вода почти кипит.
Отворяют настежь двери в храм.
![]()